Сервантес путешествие на парнас
У моего купца было два сына; одному исполнилось двенадцать, другому — почти четырнадцать лет; оба они обучались латыни в школе Общества Иисуса[14]. Они ходили туда очень пышно: с дядькой и двумя слугами, таскавшими книги и так называемый vademecum.
Посмотрев на подобную роскошь — в жаркое время их носили в ручном возке, в дождливую погоду отправляли в карете, — я невольно подумал о скромности, с какой их отец выезжал на биржу делать свои дела: при нем не бывало других слуг, кроме негра, и очень часто он не стыдился сесть на обыкновенного мула, к тому же в весьма неказистой сбруе.
Необходимо заметить, Берганса, что в Севилье и в Других городах у купцов существует особая повадка и обычай: показывать свое богатство и пышность не на себе, а на детях; ибо в торговом деле важен не сам купец, а его добрая слава; поскольку же купцы, как общее правило, обращают внимание на одни только сделки и договоры, то обычно они содержат себя в большой скромности; но честолюбие и богатство желают проявить себя во что бы то ни стало и всецело переносятся на детей, которых купцы воспитывают и холят, как принцев. Находятся среди них и такие, что добывают для детей титулы и нагрудный знак[15], который сразу отличает человека знатного от простолюдина.
Б е р г а н с а
Честолюбие человека, стремящегося улучшить свое положение без ущерба для другого, есть честолюбие благородное.
Но ведь очень редко, а вернее — никогда не бывает так, чтобы наше честолюбие не приносило вреда другому.
Б е р г а н с а
Помни, мы обещали, что не будем злословить.
Да, обещали, но я ведь ни про кого и не злословлю.
Б е р г а н с а
Благодаря тебе я получил, наконец, возможность подтвердить много раз наблюдавшуюся истину: едва только злоречивый сплетник опорочит десять семейств и оклевещет двадцать праведников, как в ответ на упрек в клевете заявляет, что он, мол, ничего такого не говорил, а если что и сказал, то совсем не в том смысле; ну, а если бы знал, что это кого-нибудь обидит, то, наверное, не сказал бы ни слова. Поистине, Сипион, нужно быть большим умницей и нужно очень следить за собой, чтобы, поддерживая разговор в течение двух часов, ни разу не удариться в сплетни. Я по себе сужу (а ведь я всего только — животное): стоит мне открыть рот, как слова идут на язык, словно москиты на вино, и всё мерзостные и нехорошие. А поэтому я снова повторяю то же, что всегда говорил: погрешать словом и делом повелось у нас еще от прародителей, и привычку эту мы всасываем с молоком кормилицы. Обрати внимание, что когда у младенца хватает сил, чтобы высунуть из пеленок руку, он поднимает ее с таким видом, будто хочет посчитаться с тем, кто, по его мнению, его обижает, а первый членораздельный звук, который он произносит, это, пожалуй, слово «кака», обращенное к няньке или матери.
Да, ты прав; сознаю свой промах и прошу извинить меня, поскольку я тебя тоже много раз извинял; «потопим это дело в море», как любят выражаться ребята, и не будем отныне сплетничать. Продолжай же свой рассказ, который оборвался на том, с какой пышностью дети купца, твоего хозяина, ходили в школу Общества Иисуса.
Б е р г а н с а
Иисус да благословит меня во всех делах моей жизни… а так как отвыкнуть от сплетен дело, на мой взгляд, трудное, я намерен прибегнуть к средству, применявшемуся, как я слышал, одним неисправимым ругателем. Поклявшись бросить свою дурную привычку, он всякий раз, когда бранился, щипал себя за руку или целовал землю в наказание за грех и, несмотря на это, все-таки продолжал ругаться. Я сделаю так: всякий раз как я погрешу против данного тобою наказа и против собственного зарока не злословить, я буду прикусывать кончик языка для того, чтобы, почувствовав боль, вспомнить о своей слабости и больше в нее не впадать.
Это опасное средство; применив его на деле, ты, пожалуй, будешь кусать себя так часто, что останешься без языка и, таким образом, действительно не сможешь больше злословить.
Б е р г а н с а
Во всяком случае я приму с своей стороны меры, а в остальном возложу упование на небо.
Итак, однажды дети моего хозяина забыли на дворе тетрадь в то самое время, когда я там находился; приучившись у мясника носить хозяйскую корзинку, я схватил vademecum и отправился за ними следом, решив не отдавать его до самой школы. Все вышло так, как я предвидел; хозяева, заметив, что я явился с vademecum во рту, осторожно придерживая его за тесемки, велели было слуге отобрать его, но я воспротивился и отдал его только при входе в аудиторию, что заставило рассмеяться всех студентов.
Сервантес путешествие на парнас
Добавление к «Парнасу»
После столь длительного путешествия я несколько дней отдыхал, и наконец вздумалось мне людей посмотреть и себя показать, выслушать приветствия друзей и, кстати, заметить на себе косые взгляды врагов, ибо хотя я ни с кем как будто не враждовал, однако вряд ли мне удалось избежать общей участи. Когда же я однажды утром вышел из монастыря Аточа, ко мне приблизился вылощенный, расфуфыренный, шуршащий шелками юнец лет двадцати четырех или около того; он поразил меня своим воротником[49], таким огромным и до того туго накрахмаленным, что, дабы поддерживать его, казалось, нужны были плечи второго Атланта. Под стать воротнику были гладкие манжеты: начинаясь у самых запястий, они взбирались и карабкались вверх по руке, словно для того, чтобы взять приступом подбородок. Не столь ретиво тянется обвивающий каменную стену плющ от подножья к зубцам, сколь сильно было стремление этих манжет, растолкав локтями локти, пробить себе дорогу вверх. Словом, голова юнца утопала в гигантском воротнике, а руки — в гигантских манжетах. И вот этот-то самый юнец, подойдя ко мне, важным и уверенным тоном спросил:
— Не вы ли будете сеньор Мигель де Сервантес Сааведра, тот самый, который назад тому несколько дней прибыл с Парнаса?
При этих словах я почувствовал, что бледнею, ибо у меня тотчас же мелькнула мысль: «А ну как это один из тех поэтов, о которых я упомянул или не упомянул в своем Путешествии ? Уж не желает ли он со мной разделаться?» Взяв себя в руки, я, однако ж, ответил:
— Да, сеньор, тот самый. Что вам угодно?
Выслушав мой ответ, юноша раскрыл объятия и обвил мне шею руками с явным намерением поцеловать меня в лоб, но ему помешал его же собственный воротник.
— Перед вами, сеньор Сервантес, верный ваш слуга и друг, — сказал он, — я давно уже полюбил вас как за ваши творения, так и за кроткий ваш нрав, о котором я много наслышан.
При этих словах я облегченно вздохнул, и волнение в моей душе улеглось; осторожно обняв юнца, дабы не помять его воротник, я сказал ему:
— Я не имею чести знать вашу милость, хотя и готов служить вам. Однако ж по всем признакам вы принадлежите к числу людей весьма рассудительных и весьма знатных, а такой человек не может не вызывать к себе уважение.
Долго еще продолжался у нас обмен любезностями, долго еще мы с ним состязались в учтивости, и, слово за слово, он признался:
— Да будет вам известно, сеньор Сервантес, что я милостью Аполлона — поэт, по крайней мере, я хочу быть поэтом, а зовут меня Панкрасьо де Ронсесвальес.
Мигель. Если б вы сами мне не сказали, никогда бы я этому не поверил.
Панкрасьо. Но почему же, сеньор?
Мигель. Потому что поэт, разряженный в пух и прах, — это большая редкость: в силу своего строгого и возвышенного образа мыслей питомцы вдохновения заботятся более о душе, нежели о плоти.
— Я, сеньор, — возразил юноша, — молод, богат и влюблен, и та неряшливость, какою отличаются стихотворцы, мне не к лицу. Молодости обязан я своим изяществом, богатство дает мне возможность блеснуть им, влюбленность же — враг неопрятности.
— Почти все, что нужно для того, чтобы стать хорошим поэтом, у вас есть, — заключил я.
Панкрасьо. Что же именно?
Мигель. Богатство и предмет страсти. Свойства богатого и влюбленного человека таковы, что они отпугивают от него скупость и влекут к щедрости, меж тем как половину божественных свойств и помыслов бедного поэта поглощают заботы о хлебе насущном. А скажите на милость, сеньор, какой род поэтического мастерства вас более всего утруждает, или, вернее, услаждает ваш досуг?
На это он мне ответил так:
— Я не понимаю, что значит поэтическое мастерство.
Мигель. Я хочу сказать, к какому роду поэзии вы более всего склонны: к лирическому, героическому или же к комическому?
— Мне любой стиль дается легко, — признался он, — однако ж я охотнее упражняюсь в комическом.
Мигель. В таком случае у вашей милости должно быть уже немало комедий?
Панкрасьо. Много, но представлена была только одна.
Мигель. И имела успех?
Панкрасьо. У простонародья — нет.
Мигель. А у знатоков?
Панкрасьо. Тоже нет.
Мигель. В чем же дело?
Панкрасьо. Нашли, что рассуждения в ней длинны, стих не весьма исправен и мало выдумки.
— От таких замечаний не поздоровилось бы и Плавту[50], — заметил я.
— Да ведь они не могли оценить ее по достоинству, оттого что из-за их же свиста представление не было окончено, — возразил он. — Со всем тем директор поставил ее вторично, но, несмотря на все его ухищрения, в театре собралось человек пять, не больше.
— Поверьте, ваша милость, — сказал я, — что у комедий, как у иных прелестниц, день на день не приходится: их успех столько же зависит от дарования автора, сколько и от чистой случайности. При мне одну и ту же комедию забросали камнями в Мадриде и осыпали цветами в Толедо — пусть же не смущает вашу милость первая неудача, ибо часто бывает так, что совершенно для вас неожиданно какая-нибудь комедия вдруг принесет вам известность и деньги.
— Деньгам я не придаю значения, — сказал он, — а вот слава мне дороже всего на свете: ведь это так приятно и так важно для автора — стоять у входа в театр, смотреть, как оттуда валом валят довольные зрители, и получать от всех поздравления.
— Подобного рода неудачи имеют и свою смешную сторону, — заметил я, — иной раз дают до того скверную комедию, что и публика не решается поднять глаза на автора, и автору совестно окинуть взглядом театр, да и сами исполнители ни на кого не смотрят, опозоренные и устыженные тем, что попались впросак и одобрили комедию.
— А вы, сеньор Сервантес, когда-нибудь увлекались театром? — спросил он. — Есть у вашей милости комедии?
— У меня много комедий, — отвечал я, — и если б даже их написал кто-нибудь другой, я все равно отозвался бы о них с похвалою: таковы, например, Алжирские нравы, Нумансия, Великая турчанка, Морское сражение, Иерусалим, Амаранта, или вешний цвет, Роща влюбленных, Единственная, или отважная Арсинда и другие, коих названия я уже не помню. Но та, которую я ставлю выше всех и за которую я особенно себя хвалю, называется Путаница : смело могу сказать, что среди тех комедий плаща и шпаги[51], какие были играны доныне, она занимает одно из первых мест.
Панкрасьо. А новые комедии у вас есть?
Мигель. Целых шесть да еще шесть интермедий.
Панкрасьо. Почему же их не ставят?
Мигель. Потому что директоры театров во мне не нуждаются, ну, а я не нуждаюсь в них.
Панкрасьо. Верно, они не знают, что у вашей милости есть новые пьесы.
Мигель. Знать-то они знают, да у них свои авторы, с которыми они друзья-приятели, с которыми очень легко ладить, и они от добра добра не ищут. Однако ж я предполагаю издать свои комедии, дабы то, что, мгновенно промелькнув на сцене, ускользнуло от внимания зрителей или же осталось для них непонятным, объяснилось при медленном чтении. К тому же всякой комедии, как и всякой песне, — свое время и своя пора.
На этом, пожалуй, и кончилась бы наша беседа, но тут Панкрасьо сунул руку за пазуху, достал аккуратно заклеенное письмо и, поцеловав, вручил его мне[52]; на конверте было написано следующее:
Мигелю де Сервантесу Сааведра, на улице Уэртас, против домов, некогда принадлежавших марокканскому принцу, в Мадриде. За доставку — 1/2 реала [53] , то есть семнадцать мараведи.
Эта приписка, указывавшая, что мне надлежит уплатить семнадцать мараведи, меня рассердила. Вернув письмо моему собеседнику, я сказал:
— Как-то раз, когда я жил в Вальядолиде, пришло письмо на мое имя, причем доплатить за него нужно было один реал. Приняла его и уплатила за доставку моя племянница, но уж лучше бы она его не принимала. Правда, после она ссылалась на мои же слова, которые она не раз от меня слышала, а именно: что деньги приятно тратить на бедных, на хороших врачей и на оплату писем, все равно — от друзей или от врагов, ибо друзья предупреждают об опасности, письма же врагов дают возможность проникнуть в их замыслы. Ну так вот, распечатал я конверт, а в нем оказался вымученный, слабый, лишенный всякого изящества и остроумия сонет, в котором автор бранил Дон Кихота . Мне стало жаль моего реала, и я велел не принимать больше писем с доплатой за доставку. А потому, ваша милость, если вы намереваетесь вручить мне что-нибудь в этом роде, то лучше возьмите письмо обратно: заранее могу сказать, что оно не стоит причитающихся с меня семнадцати мараведи.
Сеньор Ронсесвальес весело рассмеялся и сказал:
— Хотя я и поэт, но все же не такой бедный, чтобы польститься на семнадцать мараведи. Да будет вам известно, сеньор Сервантес, что письмо это не от кого-нибудь, а от самого Аполлона: он написал его назад тому недели три на Парнасе и вручил мне его для передачи вашей милости. Прочтите же его, — я уверен, что оно доставит вам удовольствие.
— Я готов последовать вашему совету, — сказал я, — но сперва доставьте же и вы мне удовольствие и расскажите, как, когда и зачем попали вы на Парнас.
Вот что он мне сообщил:
— На ваш вопрос, как я туда добрался, отвечаю: морем, ибо я и еще десять поэтов нарочно для этого зафрахтовали в Барселоне фрегат. На вопрос — когда, отвечаю: шесть дней спустя после сражения между хорошими и плохими поэтами. На вопрос же — зачем, отвечаю: к этому меня обязывало мое ремесло.
— По всей вероятности, господин Аполлон рад был вас видеть? — осведомился я.
Панкрасьо. Да, хотя он был очень занят, и он и госпожи Пиэриды[54], ибо все они вспахивали и посыпали солью поле битвы. Я спросил, для чего это, и он мне ответил, что, подобно как из зубов Кадмова дракона[55] нарождалось множество воинов, подобно как у гидры[56], которую убил Геркулес, на месте каждой отрубленной головы вырастало семь новых, а из капель крови, что лилась из головы Медузы, нарождались змеи, которые потом заполонили всю Ливию[57], так точно из гнилой крови плохих поэтов, уничтоженных в этом бою, стали выползать новые стихоплеты, размерами и всем своим поведением напоминавшие ползучих гадов, и этот гнусный приплод чуть было не заполонил всю землю, почему и пришлось перепахивать это место и посыпать солью, как если бы там прежде стоял дом предателя.
Выслушав этот рассказ, я вскрыл конверт и прочитал следующее:
Аполлон Дельфийский [58] шлет привет Мигелю де Сервантесу Сааведра
Податель сего, сеньор Панкрасьо де Ронсесвальес, расскажет Вам, сеньор Мигель де Сервантес, чем я был занят в тот день, когда он явился ко мне со своими друзьями. Я же скажу, что я Вами весьма недоволен, ибо Вы обошлись со мной неучтиво: Вы отбыли с нашей горы, не простившись ни со мною, ни с Музами, хотя Вам хорошо известно, как расположен к Вам я и, следственно, мои дочки; впрочем, если Вы спешили на знаменитые неаполитанские торжества[59] — повидаться со своим меценатом, великим графом Лемосским, то это причина уважительная, и я Вас прощаю.
После того, как Вы покинули наши края, на меня со всех сторон посыпались беды, и я очутился в весьма затруднительном положении, главным образом потому, что мне предстояло истребить и уничтожить потомство погибших на поле брани плохих поэтов, рождавшееся из их крови, но теперь, хвала небесам и моей находчивости, порядок уже восстановлен.
То ли от шума битвы, то ли от испарений, поднимающихся от земли, пропитанной вражьей кровью, у меня начались головокружения, и от них я словно бы поглупел и не могу сочинить ничего приятного и ничего полезного. А потому, если Ваша милость заметит там, у себя, что иные поэты, хотя бы из числа самых знаменитых, пишут и сочиняют всякий вздор и разные безделицы, то в вину им этого не ставьте, ниже пренебрегайте ими, но отнеситесь к ним снисходительно, ибо если уж я, отец и изобретатель поэзии, горожу чепуху и кажусь дурачком, то не удивительно, что кажутся таковыми и они.
Посылаю Вашей милости мой указ, содержащий в себе льготы, правила и наставления для поэтов: Вашей милости надлежит беречь его и исполнять буквально, для чего я предоставляю Вам все требующиеся законом полномочия.
Иные из поэтов, приезжавших ко мне с сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес, жаловались на то, что их нет в списке, посланном в Испанию Меркурием, а также на то, что Ваша милость ни словом о них не обмолвилась в своем Путешествии . Я им сказал, что виноват в этом я, а не Ваша милость, и что это поправимо при условии, если они прославят себя своими произведениями, ибо удачные произведения сами принесут им широкую известность и славу, и тогда им уже не придется выпрашивать себе похвалу.
Далее: если случится оказия, то я пришлю Вам грамоту с новыми льготами и уведомлю обо всем, что произойдет на нашей горе. Ваша милость также, надеюсь, известит меня о своем здоровье, а равно и о здоровье всех своих приятелей.
Славному Висенте Эспинелю[60], одному из самых старых и верных моих друзей, прошу передать привет.
Если дон Франсиско де Кеведо[61] еще не уехал в Сицилию, где его ожидают, то пожмите ему за меня руку и скажите, чтобы он не преминул со мной повидаться, — ведь он будет от меня совсем близко, — а то когда я последний раз приезжал в Мадрид, вследствие его внезапного отъезда в Сицилию нам так и не удалось побеседовать.
Если Ваша милость встретится с кем-либо из тех двадцати[62], что перешли в стан врага, то не говорите ему ничего и не обижайте его: ему и без того не сладко, ибо перебежчики, подобно бесам, вечно пребывают в тоске и смятении.
Берегите, Ваша милость, свое здоровье, следите за собой и бойтесь меня, особливо в жаркую пору, ибо тогда я уже не помню себя и не считаюсь ни с дружескими своими привязанностями, ни с велениями долга.
С сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес водите дружбу и передайте ему содержание этого письма; он богат и потому может позволить себе роскошь быть плохим поэтом. Засим да хранит господь Вашу милость, чего я Вам от души желаю.
Парнас, 22 июля 1614 года — день, когда я надеваю шпоры, дабы подняться на Сириус.
Слуга Вашей милости светлейший Аполлон .
На особом листе было написано следующее:
УКАЗ АПОЛЛОНА, СОДЕРЖАЩИЙ В СЕБЕ ЛЬГОТЫ. ПРАВИЛА И НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАНСКИХ ПОЭТОВ
Во-первых, поэтам, славящимся своею неопрятностью, надлежит прославиться также и своими стихами.
Item , если кто-либо из поэтов скажет, что он беден, то все должны верить ему на слово, не требуя от него никаких особых клятв и уверений.
Всем поэтам вменяется в обязанность иметь кроткий и тихий нрав, и пусть не гневаются они даже в том случае, если на чулках у них спустятся петли.
Item , если кто-либо из поэтов, зайдя к своему другу или знакомому, застанет его за принятием пищи и тот пригласит его к столу, а поэт поклянется, что уже ел, то не верить ему ни под каким видом, а принудить есть силой, каковое насилие особой неприятности ему не доставит.
Item , самый бедный из всех поэтов, каких только видывал свет со времен Адама и Мафусаила, имеет право сказать, что он влюблен, хотя бы это было и не так, и назвать свою даму как ему заблагорассудится: хочет — Амарилис[63], хочет — Анардой, хочет — Хлорой, хочет — Филисой, хочет — Филидой, даже Хуаной Тельес — словом, как ему вздумается; спрашивать же с него в сем случае резонов воспрещается.
Item , повелеваю — всех поэтов, независимо от их чина и звания, почитать за дворян, ибо право на то дает им их благородное занятие, — ведь и так называемых подкидышей принято у нас почитать за христиан.
Item , да остерегутся поэты сочинять стихи в честь принцев и вельмож, понеже ни лесть, ни ласкательство не должны переступать порог моего дома, — таково мое желание и таково мое последнее слово.
Item , тот комический поэт, коему посчастливилось увидеть на сцене три свои комедии, имеет право бесплатно посещать театры и занимать стоячие места; по возможности же следует предоставлять ему бесплатно и сидячие.
Item , предупреждаю, что буде кто-либо из поэтов пожелает выдать в свет книгу своего сочинения, то пусть он не воображает, что, посвятив ее какому-либо монарху, тем самым он обеспечил ей успех, ибо если она плоха, то никакое посвящение ее не спасет, хотя бы она была посвящена настоятелю Гуадалупской обители.
Item , предупреждаю, что ни один поэт не должен стыдиться своего звания, ибо еслч он хорош, то он достоин похвалы, если же плох, то все равно найдутся такие, которые его похвалят, — было бы корыто, и т. д.
Item , все хорошие поэты могут располагать мной и всем, что ни есть на небе, по своему благоусмотрению; настоящим доводится до их сведения, что они вольны приписывать свойства моих лучевидных кудрей[64] волосам своей возлюбленной и уподоблять ее очи двум солнцам: таким образом, вместе со мной, их окажется три, и земля будет ярче освещена; звездами же, знаками Зодиака и планетами они могут пользоваться как им угодно, и так, незаметно для них самих, образуется новая небесная сфера.
Item , всякий поэт, которому собственные его стихи доказывают, что он поэт, волен чтить себя и глубоко уважать, согласно поговорке: дрянь тот, кто дрянью себя почитает.
Item , всем возвышенным поэтам воспрещается бродить по людным местам и читать свои стихи, ибо истинным питомцам вдохновения подобает читать их в афинских дворцах, а не на стогнах.
Item , матерям, у которых дети — шалуны и плаксы, особо рекомендуется пугать и стращать их новой букой, а именно: «Берегитесь, дети! Вон идет поэт Имярек! Своими скверными стихами он вас живо сбросит в тартарары».
Item , если в постный день поэт, сочиняя стихи, грыз ногти, то это отнюдь не значит, что он оскоромился.
Item , если кто-либо из поэтов слывет драчуном, хвастунишкой и забиякой, то пусть он на этом славном поприще сломит себе шею и да отлетит от него слава, которую он мог бы стяжать хорошими стихами.
Item , предупреждаю, что поэта, который присвоил чужой стих, за вора почитать не следует, а вот если он украл чужую мысль или целую строфу, тогда он прямой Как.
Item , всякий хороший поэт, — хотя бы он и не сочинил героической поэмы и не наводнил мировую сцену великим множеством произведений, — за то немногое, что им создано, может получить название божественного, подобно Гарсиласо де ла Вега[65], Франсиско де Фигероа, полководцу Франсиско де Альдана[66] и Эрнандо де Эррера[67].
Item , поэтам, пользующимся покровительством кого-либо из сильных мира сего, советую ходить к нему пореже, ничего не просить и всецело положиться на судьбу, ибо тот благодетель, который питает всех земляных и водяных червей, прокормит и поэта, будь он так же прожорлив, как червь.
Сервантес путешествие на парнас
А л ь г а р р о б а
За мной не станет дело.Б а к а л а в р
Все беритесь! Не отставать, цыгане и цыганки: Качай, друзья!П о д с а к р и с т а н
О господи, помилуй! Смотрите, рассержусь, так будет плохо За эти шутки от меня. Клянусь Петром, что всех постигнет отлученье[246], Которые держались за попону. Довольно, стойте! Не казнят вконец, Чтоб бедному раскаянье оставить.П о д с а к р и с т а н
Измят совсем. И уж теперь напредки Зашью свой рот двойной сапожной дратвой. Вот именно, лишь только то и нужно.Б а к а л а в р
Цыгане, вы домой ко мне придите; Поговорить хочу. Пойдем с тобой.Б а к а л а в р
До завтра выборы; сберемся рано Поутру мы, а голос мой за Рана. Запеть, сеньоры?Б а к а л а в р
Что-нибудь запойте! Таких певцов, как Рана, поискать. Поет и ловко в уши напевает.Уходят. Цыгане поют: "Я песочек потопчу. "
Грахалес, другой сакристан[248].
Андрес, парень с кружкой для сбора на икону.
Мануэль, другой парень, торгующий в разнос полотном, кружевами и пр.
С о л д а т. Что тебе нужно, пустой призрак?
С а к р и с т а н. Я не пустой призрак, я твердое тело.
С о л д а т. Да, но все-таки я заклинаю тебя всем моим злополучием, скажи: кто ты и чего ищешь в этой улице?
С а к р и с т а н. Со всем моим благополучием отвечаю тебе: я Лоренсо Пасильяс, подсакристан этого прихода, и ищу того, что я-то найду, и чего ты тоже ищешь, да не находишь.
С о л д а т. Ты чего доброго не Кристиночку ли ищешь, судомойку из этого дома?
С а к р и с т а н. Tu dixisti[250].
С о л д а т. Ну, так поди сюда, валет[251] сатаны!
С а к р и с т а н. Ну, так я здесь останусь, мне и тут хорошо, кислая пиковая дама.
С о л д а т. Прекрасно: валет и дама! Недостает туза; но ты скоро его получишь. Поди сюда, еще раз говорю я тебе. А знаешь ли ты, Пасильяс, рожон тебе в горло, что Кристина мой предмет?
С а к р и с т а н. А знаешь ли ты, улитка в человечьем платье, что этот твой предмет я выручил и закрепил за себя и что он мой по всем правам и законам.
С о л д а т. Нет, как бог свят, я тысячу раз пырну тебя шпагой и исполосую твою голову в клочки.
С а к р и с т а н. С тебя довольно и тех клочков, которые у тебя на штанах и на колете; а голову мою уж оставь в покое!
С о л д а т. Да ты разговаривал когда-нибудь с Кристиной?
С а к р и с т а н. Всегда, когда только мне угодно.
С о л д а т. Давал ей подарки?
С а к р и с т а н. Много.
С о л д а т. Сколько и какие?
С а к р и с т а н. Я подарил ей коробочку из-под айвы, очень большую, полнехоньку просвирных обрезков, белых, как снег, и на придачу четыре восковых огарка, тоже белых, как горностай.
С о л д а т. А еще что?
С а к р и с т а н. А еще письмо со вложением ста тысяч. желаний служить ей.
С о л д а т. И что ж она тебе отвечала?
С а к р и с т а н. Обнадеживает, что скоро моей женой будет.
С о л д а т. Как, разве ты еще не пострижен?
С а к р и с т а н. Нет, я послушник и могу жениться, как и когда мне в голову придет, что ты и увидишь очень скоро.
С о л д а т. Поди сюда, трепаный послушник, отвечай мне на то, что я у тебя буду спрашивать! Если уж тебе эта девушка так превосходно отвечала, чему я не совсем верю, на твои жалкие подарки, как же она ответит на мои великолепные? Я ей послал недавно любовное письмо, написанное ни больше ни меньше как на обороте мемориала, где я изложил свои заслуги и настоящую бедность, который я подавал его величеству, потому что солдату не стыдно признаться, что он беден. Мемориал этот уже утвержден, о чем и сообщено главному раздавателю милостыни; и, однакож, я, нисколько не жалея и не думая о том, что это, без сомнения, будет мне стоить от четырех до шести реалов, с невероятным благородством и замечательной свободой написал на обороте его, как я уже говорил тебе, свое письмо; и из грешных моих рук перешло оно в ее почти святые руки.
Сервантес путешествие на парнас
Удивляться не приходится, Берганса; делать зло — наше врожденное свойство, а потому научиться ему нетрудно.
Б е р г а н с а
Что же тебе сказать, брат Сипион, о том, что я видел на Бойнях, о тех поразительных вещах, которые там творятся?
Прежде всего, ты должен заметить, что все, кто там работает, от первого до последнего, — народ с весьма покладистой совестью, люди отпетые, не боящиеся ни короля, ни суда его; все они по большей части распутники и живут как плотоядные хищные птицы: и сами они и подруги их существуют одними кражами. Каждое утро в скоромные дни, еще до рассвета, собирается возле Боен толпа женщин и мальчишек с мешками. Приносят они их пустыми, а уносят набитыми кусками мяса, потрохами, шулятами, а то и целыми частями филея. Нет такой убитой скотины, от которой эти люди не урвали бы частицы, и притом самой вкусной и лакомой; дело в том, что в Севилье не имеется подрядчика, и каждый желающий поставляет мясо, какое вздумается, так что сортá, посылаемые на убой, бывают иногда очень хорошие, а иногда очень плохие. Такой порядок поставок всегда обеспечивает полное изобилие. Скотоводы вступают в согласие с мошенниками, о которых я рассказываю, но не для того, чтобы защитить себя от покраж (это дело невозможное), а для того, чтобы те ограничивали себя в поборах и выемках с убитых животных, ибо они подчищают и подрезывают их так, как если бы то были ивы или виноградные лозы. Ничто, однако, меня так не поражало и ничто не казалось столь ужасным, как сознание, что с такой же легкостью убивают эти мясники человека, как и корову: в одно мгновение ока, раньше чем успеешь сказать «дважды три», всаживают они нож с желтым черенком в живот человека и закалывают его, словно быка. Если день проходит без драк, без ранений или без убийств, это чудо; все они выдают себя за храбрецов и головорезов, а бывает, что и совсем худым делом занимаются. Ни одного нет такого, у кого не было бы на площади св. Франциска своего ангела-хранителя[6], «умасленного» филеем и воловьими языками. Одним словом, по отзыву одного неглупого человека, которого я слышал, тремя вещами следовало бы королю овладеть[7] в Севилье: Охотной улицей, Костанильей и Бойнями.
Друг Берганса, если на описание хозяев, у которых ты служил, и недостатков их ремесла у тебя будет уходить столько времени, как сейчас, нам придется молить небо о продлении дара речи по меньшей мере на год, да и тогда, пожалуй, с таким ходоком, как ты, не дойдешь и до половины рассказа.
Мне хочется обратить твое внимание на одну вещь, в справедливости коей ты убедишься, когда я буду рассказывать историю моей жизни. Дело в том, что бывают рассказы, прелесть которых заключается в них самих, в то время как прелесть других рассказов состоит в том, как их рассказывают; я хочу сказать, что иной рассказ пленяет нас независимо от вступлений и словесных прикрас, другой же приходится рядить в слова, и при помощи мимики, жестов и перемены голоса из ничего получается все: из слабых и бледных делаются они острыми и занятными. Помни об этом указании и постарайся воспользоваться им в течение рассказа.
Б е р г а н с а
Так я и буду делать, если только смогу и если не поддамся великому своему искушению — поболтать; думаю, однако, что при большом старании я сумею взять себя в руки.
Возьми лучше в руки язык: ибо в нем сосредоточено великое зло жизни человеческой.
Б е р г а н с а
Итак, продолжаю. Хозяин научил меня носить в зубах корзинку и защищать ее от нападений грабителей. Он показал мне также дом своей подруги и тем самым избавил ее от необходимости посылать служанку на Бойни, ибо ранним утром я относил ей все, что он успевал наворовать за ночь. Однажды на рассвете, когда я старательно нес ей паек, мне послышалось, будто из окна меня кто-то окликнул по имени; подняв голову, я увидел замечательно красивую девушку; я остановился на минуту, она подбежала к воротам и снова начала звать; я подошел, делая вид, что желаю узнать, чего ей от меня надобно, а надобно ей было только одно: выхватить содержимое из корзины и сунуть туда старый башмак.
Сервантес путешествие на парнас

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ


Обманная свадьба


з госпиталя Воскресения Христова, находящегося в Вальядолиде[1], за воротами Поединка, вышел военный. Уже по тому, что он опирался на шпагу, как на палку, по слабости его ног и по желтизне лица ясно было, что, несмотря на прохладную погоду, ему пришлось, должно быть, потеть дней двадцать, выпуская из себя болезнь, которую нагулял он, пожалуй, всего в один час. Он шел мелкими шагами и волочил ноги, как выздоравливающий. При входе в городские ворота он заметил, что навстречу ему идет знакомый, которого он не видел по меньшей мере месяцев шесть. Этот последний стал часто осенять себя крестным знамением, как если бы увидел какое-нибудь страшное видение, и, подойдя ближе, сказал:
— Что я вижу, господин поручик Кампусано? Неужели вы живете здесь, в нашем городе? А я, честное слово, думал, что вы во Фландрии и уж, конечно, работаете там пикой, а не волочите по родной земле свою шпагу. Что означает ваша бледность и расслабленность?
Кампусано на это ответил:
— В вашем ли я городе или нет, сеньор лиценциат Перальта, вы можете решить сами, так как вы меня здесь видите, а на другой ваш вопрос могу ответить, что я иду прямо из госпиталя, где только что «потел» от жестоких последствий дурной болезни, которою наградила меня женщина, взятая мною в жены, ну, а связываться с нею мне, конечно, не следовало.
— Так вы, значит, женились? — осведомился Перальта.
— Да, — отвечал Кампусано.
— Должно быть, дело это началось с любовных проказ, — заметил Перальта, — а такие браки неизбежно приводят к раскаянию.
— Не знаю, стоит ли тут говорить о проказах, но женился я во всяком случае себе на горе, ибо от брака этого или, вернее, от докуки моей много терзаний претерпели душа и тело; и если от борьбы с телесными недугами сошло с меня сорок потов, то от духовных страданий не нашел я ни одного облегчающего средства. Однако простите меня, ваша милость, я не в состоянии вести долгую беседу на улице; как-нибудь в другой раз я с большим удобством изложу вам свои приключения, где попадаются такие необычайные и странные вещи, какие вашей милости вряд ли приходилось слышать.
Кампусано поблагодарил и принял приглашение. Они сходили к Сан Льоренте, прослушали мессу, затем Перальта повел знакомца к себе домой, угостил, как обещал, еще раз повторил, что всегда будет рад ему служить, и по окончании еды пожелал узнать про события, которыми так прихвастнул военный.
Кампусано не заставил себя просить и начал рассказ следующим образом:
— Вы, конечно, хорошо помогите, сеньор лиценциат Перальта, что в этом самом городе я снимал комнату вместе с капитаном Педро де Эррера, находящимся ныне во Фландрии?
— Отлично помню, — ответил Перальта.
— Так вот однажды, — продолжал Кампусано, — когда мы заканчивали нашу трапезу в гостинице на улице Ла Солана, где мы проживали, туда вошли две по виду знатные женщины с двумя служанками. Одна из них, прислонившись к окну, стала беседовать с капитаном, другая села в кресло рядом со мной, опустив покрывало до самого подбородка и показывая лицо лишь настолько, насколько позволяла прозрачность ткани. Хотя я учтиво просил ее об одолжении откинуть покрывало, уговорить ее было невозможно, и это еще сильнее разожгло мое желание ее увидеть.
Как бы для того, чтобы желание это возросло еще больше, сеньора (не знаю, умышленно или случайно) высвободила из-под плаща одну руку, очень белую и с отличными перстнями.
Был я тогда весьма наряден, в большой цепи, которую ваша милость, должно быть, видели, в шляпе с перьями и с дорогим убором, в костюме ярких цветов — как полагается солдату, а неразумие мое мне нашептывало, что я ферт фертом и что мне сам черт не брат.
И вот я просил ее откинуть плащ, а она на это ответила:
«Оставим это. У меня свой дом; ваш слуга может сходить следом за мной и узнать, где я живу; хотя я гораздо серьезнее, чем можно подумать на основании такого ответа, мне хочется все же посмотреть, такой ли вы умница, как и щеголь, а поэтому я буду очень рада, если вы меня навестите».
Я рассыпался в благодарностях за оказанную мне великую честь и, чтобы не остаться в долгу, посулил ей золотые горы. Капитан окончил беседу, дамы ушли, и один из моих слуг отправился следом за ними.
Капитан сообщил мне, что дама просила его передать несколько писем во Фландрию другому капитану, который, по ее словам, приходился ей двоюродным братом, тогда как товарищ мой знал, что то был ее возлюбленный.
Белоснежные ручки, увиденные мной, зажгли во мне пожар; я умирал от желания взглянуть на лицо незнакомки. На следующий день слуга провел меня, и меня беспрепятственно впустили. Я увидел отлично обставленный дом и женщину лет тридцати, которую узнал по рукам. Необычайно красивой она не была, но была красивой в такой мере, что при знакомстве можно было в нее влюбиться, ибо голос
Сервантес путешествие на парнас

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ


Обманная свадьба


з госпиталя Воскресения Христова, находящегося в Вальядолиде[1], за воротами Поединка, вышел военный. Уже по тому, что он опирался на шпагу, как на палку, по слабости его ног и по желтизне лица ясно было, что, несмотря на прохладную погоду, ему пришлось, должно быть, потеть дней двадцать, выпуская из себя болезнь, которую нагулял он, пожалуй, всего в один час. Он шел мелкими шагами и волочил ноги, как выздоравливающий. При входе в городские ворота он заметил, что навстречу ему идет знакомый, которого он не видел по меньшей мере месяцев шесть. Этот последний стал часто осенять себя крестным знамением, как если бы увидел какое-нибудь страшное видение, и, подойдя ближе, сказал:
— Что я вижу, господин поручик Кампусано? Неужели вы живете здесь, в нашем городе? А я, честное слово, думал, что вы во Фландрии и уж, конечно, работаете там пикой, а не волочите по родной земле свою шпагу. Что означает ваша бледность и расслабленность?
Кампусано на это ответил:
— В вашем ли я городе или нет, сеньор лиценциат Перальта, вы можете решить сами, так как вы меня здесь видите, а на другой ваш вопрос могу ответить, что я иду прямо из госпиталя, где только что «потел» от жестоких последствий дурной болезни, которою наградила меня женщина, взятая мною в жены, ну, а связываться с нею мне, конечно, не следовало.
— Так вы, значит, женились? — осведомился Перальта.
— Да, — отвечал Кампусано.
— Должно быть, дело это началось с любовных проказ, — заметил Перальта, — а такие браки неизбежно приводят к раскаянию.
— Не знаю, стоит ли тут говорить о проказах, но женился я во всяком случае себе на горе, ибо от брака этого или, вернее, от докуки моей много терзаний претерпели душа и тело; и если от борьбы с телесными недугами сошло с меня сорок потов, то от духовных страданий не нашел я ни одного облегчающего средства. Однако простите меня, ваша милость, я не в состоянии вести долгую беседу на улице; как-нибудь в другой раз я с большим удобством изложу вам свои приключения, где попадаются такие необычайные и странные вещи, какие вашей милости вряд ли приходилось слышать.
Кампусано поблагодарил и принял приглашение. Они сходили к Сан Льоренте, прослушали мессу, затем Перальта повел знакомца к себе домой, угостил, как обещал, еще раз повторил, что всегда будет рад ему служить, и по окончании еды пожелал узнать про события, которыми так прихвастнул военный.
Кампусано не заставил себя просить и начал рассказ следующим образом:
— Вы, конечно, хорошо помогите, сеньор лиценциат Перальта, что в этом самом городе я снимал комнату вместе с капитаном Педро де Эррера, находящимся ныне во Фландрии?
— Отлично помню, — ответил Перальта.
— Так вот однажды, — продолжал Кампусано, — когда мы заканчивали нашу трапезу в гостинице на улице Ла Солана, где мы проживали, туда вошли две по виду знатные женщины с двумя служанками. Одна из них, прислонившись к окну, стала беседовать с капитаном, другая села в кресло рядом со мной, опустив покрывало до самого подбородка и показывая лицо лишь настолько, насколько позволяла прозрачность ткани. Хотя я учтиво просил ее об одолжении откинуть покрывало, уговорить ее было невозможно, и это еще сильнее разожгло мое желание ее увидеть.
Как бы для того, чтобы желание это возросло еще больше, сеньора (не знаю, умышленно или случайно) высвободила из-под плаща одну руку, очень белую и с отличными перстнями.
Был я тогда весьма наряден, в большой цепи, которую ваша милость, должно быть, видели, в шляпе с перьями и с дорогим убором, в костюме ярких цветов — как полагается солдату, а неразумие мое мне нашептывало, что я ферт фертом и что мне сам черт не брат.
И вот я просил ее откинуть плащ, а она на это ответила:
«Оставим это. У меня свой дом; ваш слуга может сходить следом за мной и узнать, где я живу; хотя я гораздо серьезнее, чем можно подумать на основании такого ответа, мне хочется все же посмотреть, такой ли вы умница, как и щеголь, а поэтому я буду очень рада, если вы меня навестите».
Я рассыпался в благодарностях за оказанную мне великую честь и, чтобы не остаться в долгу, посулил ей золотые горы. Капитан окончил беседу, дамы ушли, и один из моих слуг отправился следом за ними.
Капитан сообщил мне, что дама просила его передать несколько писем во Фландрию другому капитану, который, по ее словам, приходился ей двоюродным братом, тогда как товарищ мой знал, что то был ее возлюбленный.
Белоснежные ручки, увиденные мной, зажгли во мне пожар; я умирал от желания взглянуть на лицо незнакомки. На следующий день слуга провел меня, и меня беспрепятственно впустили. Я увидел отлично обставленный дом и женщину лет тридцати, которую узнал по рукам. Необычайно красивой она не была, но была красивой в такой мере, что при знакомстве можно было в нее влюбиться, ибо голос
Мигель де Сервантес
Собрание сочинений в пяти томах :
Том 4 : Назидательные новеллы. Послание к Матео Васкесу. Галатея. Путешествие на Парнас (1961)
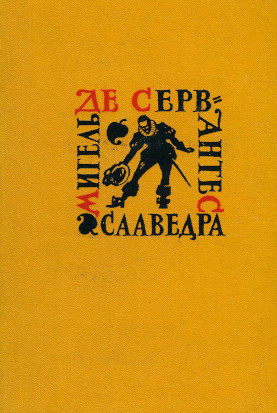
Год издания: 1961.
Место издания: Москва.
Издатель: Правда.
Количество страниц: 466.
Электронное издание подготовил: Irbys27.
Электронное воспроизведение книги в распознанном текстовом pdf файле с сохранением фотографического чёрно-белого, или, если необходимо, цветного изображения страниц книги. Текст находится под изображением, и его можно копировать, если необходимо цитировать по публикации.
Читайте также:


